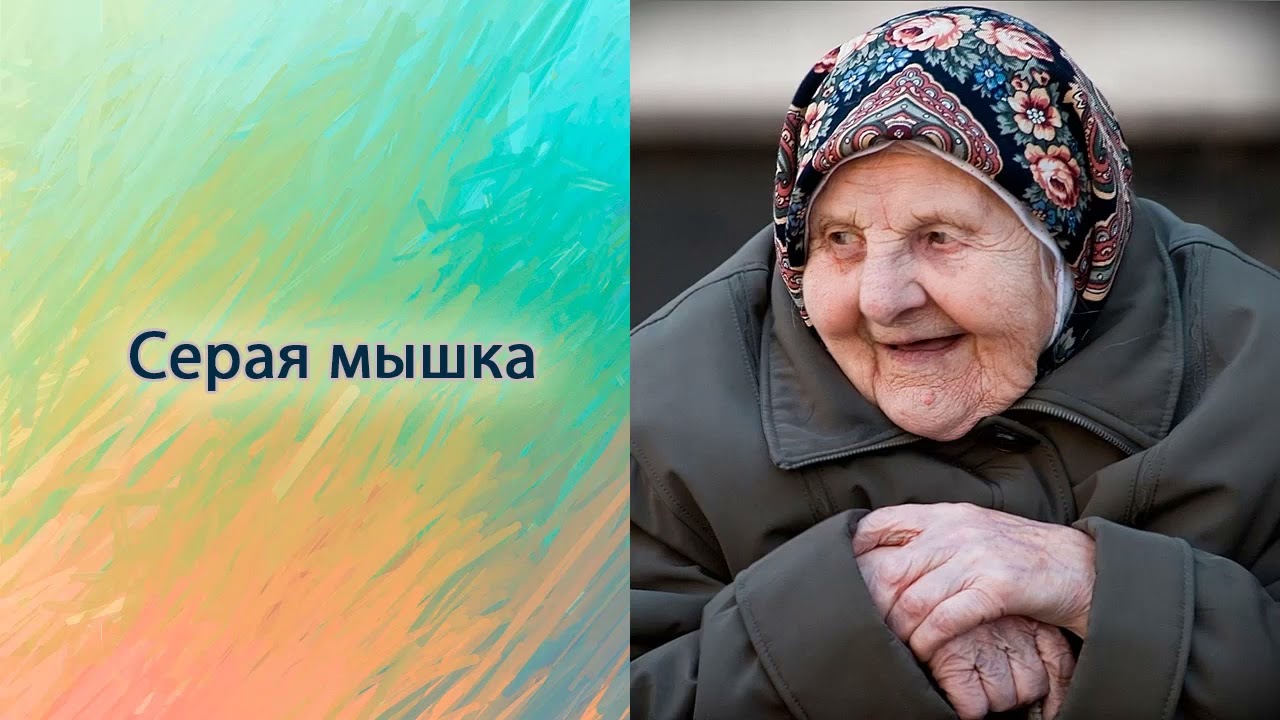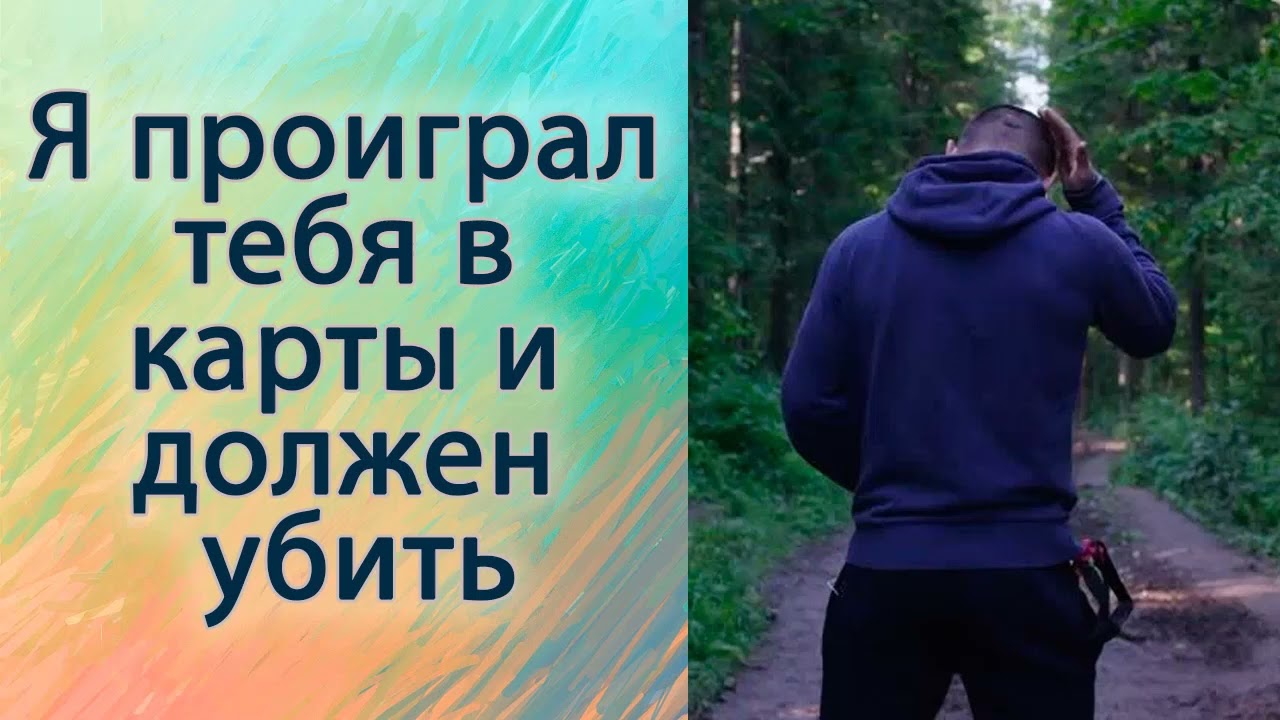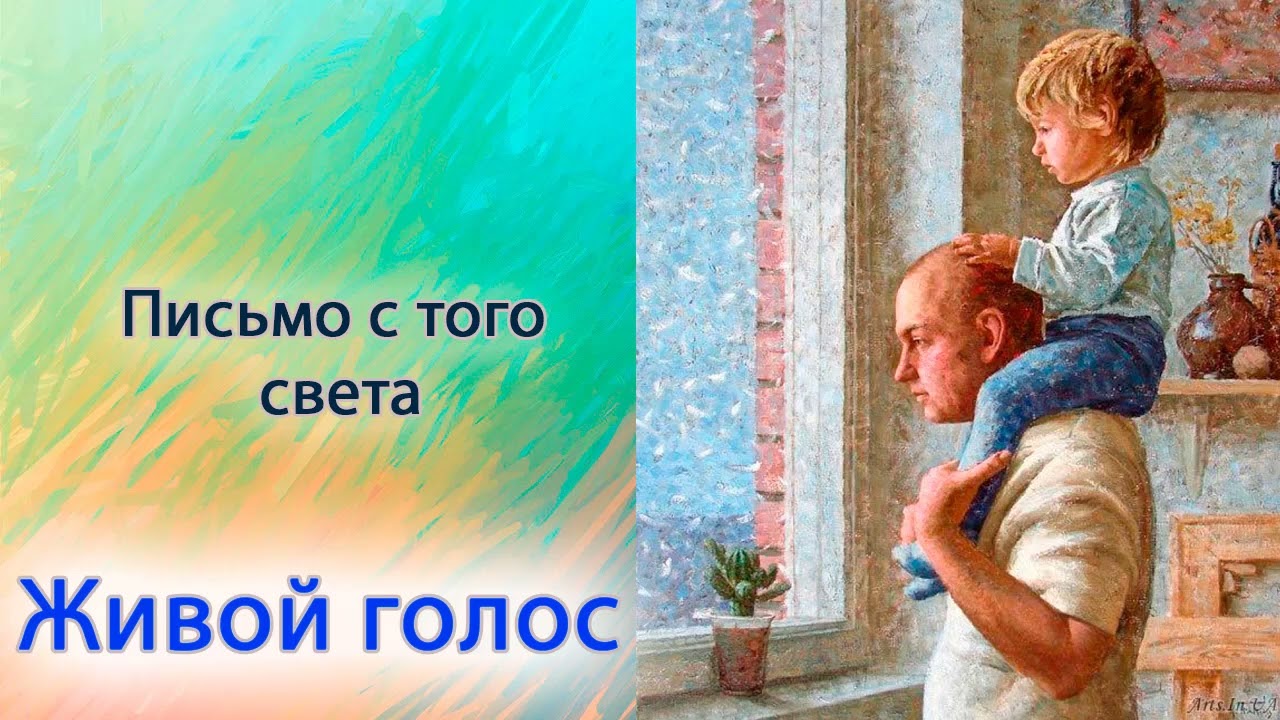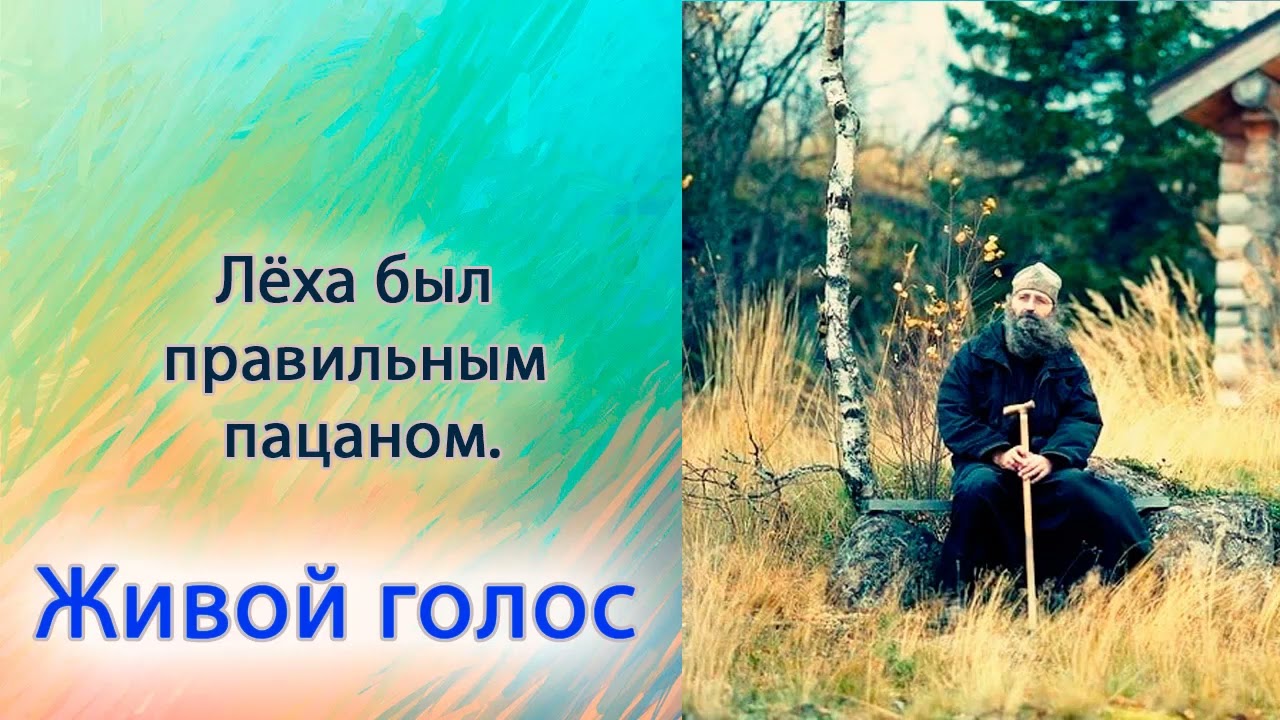Старик Ираклий.
Старик Ираклий сидел на плетеном стуле у порога своего дома. Эта привычка сидеть по вечерам во дворе дома и созерцать окружающий мир, вспоминать прошлое появилась у него в последние годы. Слабые порывы теплого ветра доносили запахи осенних трав и последних цветов, ласково касались лица, шевелили седые волосы. На еще светлом небе появились первые звезды. Да, жизнь прошла! Много в ней было всего, очень много. Старик Ираклий перебирал дни своей жизни, как четки. Он старался дать оценку уже отшумевшим делам, раскаивался в дурном, горевал о том, что можно было сделать хорошего. И благодарил, благодарил Бога за все. Да, скоро, очень скоро он будет больше давать Ему отчет. Последнее время старика стала преследовать мысль, что, возможно, не все было сделано им в этой жизни, что, может быть, можно еще успеть сделать то, что он упустил. Вот и сейчас, сидя у порога своего дома и глядя на темнеющее небо, он мысленно обращался к Нему: «У меня была прекрасная жизнь. Были силы, здоровье, удаль и красота. Я имел разум стараться не делать зла, старался жить по Твоим законам. Меня окружали верные друзья. Я вырастил красавца сына. Это был Твой подарок мне под конец моих дней. Ты дал мне наследника тогда, когда я уже думал, что покину этот мир, оставив свой дом пустым. Скоро я увижу Тебя. Но мне кажется, что что-то очень важное мною не сделано. Что? Подскажи мне. Я хочу уйти, сделав все, что мне по силам». Размышления старика были прерваны цокотом копыт по дороге. Кто-то летел во весь опор. И вот перед изгородью на взмыленном коне появился всадник. «Отец, спрячь меня. За мной гонятся. Я погибну», — задыхаясь, произнес незнакомец. Старик спрятал гостя и его коня в сарае за домом. И не успел он прикрыть двери сарая, как его вновь окликнули. За изгородью было несколько всадников, они взволнованно переговаривались. Один из них обратился к старику: «Отец, ты никого не видел? Мы преследуем одного человека. Он негодяй». «Нет», — ответил старик. Всадники умчались, и опять мир окутала тишина. Уже совсем стемнело. Ираклий не спешил уходить, хотя вместе с наступающей ночью пришла прохлада. Он очень любил эти часы, когда мир затихал и становилось слышно дыхание Бога. Но в этот вечер насладиться тишиной ему не пришлось. На дороге послышался скрип колес, шаги многих людей и тревожные голоса. «Что-то случилось!» — подумал старик, и тревога охватила его. Он поднялся и подошел к изгороди: изо всех сил он пытался вглядеться в ночь. Тревога усиливалась, и старик вышел на дорогу. «Почему мне так тревожно? — подумалось ему. — Это, наверное, наши возвращаются с праздника». В кромешной тьме южной ночи он ничего не мог разглядеть, да и люди были еще далеко. Просто в тишине звуки далеко слышны. Но старику казалось, что это многими голосами говорит беда и что ног у нее тоже много. Шествие остановилось прямо перед ним. Впереди шел Нугзар. Когда-то в детстве они вместе бегали купаться на реку, были заводилами всех ребят села. Теперь Нугзар был такой же седой, как Ираклий. И теперь он был вестник беды для своего друга детства. Когда-то они вместе ушли на фронт, воевали в одном полку и вместе вернулись в село. Много они видели страшного в ту войну. Но сейчас было страшнее. И сжав руки друга, Нугзар, задыхаясь, произнес: «Ираклий, Томаз убит». Нет, не заплакал старик Ираклий. Не закричал, не застонал. Он медленно подошел к телеге и долго вглядывался в спокойное лицо сына. Он вырастил его один. Жена умерла, когда ребенку было два года. Сам Ираклий был уже далеко не молод. Родных у него не было. Они были два самых близких друг другу человека. И вот теперь…. «Господи! Господи!» — прошептал старик и упал, обняв тело сына. Три дня прошли как во сне. Похороны, поминки. Односельчане говорили, что на празднике в соседнем селе Томаз посмеялся над конем юноши из дальнего села. Юноша тот остался сиротой несколько лет назад, а конь этот был памятью об отце. Парень ушел, а потом вернулся с оружием и застрелил Томаза. Убийцу искали и не нашли. Все закончилось. И старик остался один в своем доме. И опять вечером он сидел у крыльца и смотрел на окружающий его мир, но теперь из глаз его текли слезы. И вдруг он вспомнил о том человеке в сарае. Вспомнил и понял, кто это. Медленно вошел Ираклий в дом и долго смотрел на старинное оружие, развешанное на стене. Это была память об отце и деде. А потом также медленно он вышел из дома и пошел к сараю. Когда Ираклий открыл сарай, то увидел огромные испуганные глаза ребенка. Худенькая фигурка скорчилась в углу. С ужасом и тоской мальчик смотрел на старика. За три дня он, сидя в сарае, слышал и похоронную музыку, и плач, и разговоры. Он понял, в чьем доме находится и ждал расплаты. Старик Ираклий помолчал, а потом тихо сказал: «Выходи». И ушел. Мальчик выбрался из сарая и подошел к старику. «Прости, отец. Я виноват. Я сам пойду в милицию и все расскажу», — обратился он к Ираклию. Не глядя на мальчика, старик провел его в дом и велел поесть и выпить вино, помянув Томаза. А потом, все также не глядя, спросил, кто он, сколько ему лет, с кем живет. Оказалось, что парнишке 16 лет. Несколько лет назад погиб в горах отец, мать умерла раньше. Он — один как перст. Ни родных, никого. Только пятилетняя сестренка, которую он растит. Работает в совхозе. Конь был памятью об отце, которого он обожал, а Томаз грубо посмеялся, назвав коня клячей. Он, конечно, не прав и пойдет сейчас же в милицию. Старик молчал, долго молчал. Наконец, медленно, ворочая слова как камни, сказал: «Сейчас стемнеет и ты поедешь домой. Постарайся, чтобы тебя никто не видел. Привезешь девочку ко мне. А сам спрячешься на время, пока люди все забудут». Старик помолчал и продолжал: «Я покажу тебе, где спрятаться». Старик замолчал, а мальчик, боясь пошевелиться, стоял рядом и смотрел на него. «Господи, помоги мне», — прошептал Ираклий, подняв глаза к звездному небу и наконец посмотрел на худенького, дрожащего паренька. «А когда все успокоится, ты придешь к нам, сынок…» — Так это был старик Ираклий? А девочка — сестра того паренька? — наперебой спрашивали мы проводника. — А почему ты не предупредил, что заедем к нему? — Он не любит, когда его рассматривают, хвалят, начинают расспрашивать, — отвечал проводник. — А где тот паренек? — Он учится в техникуме, в городе. Постоянно навещает Ираклия и сестру. Спутники мои обсуждали, ахали, восхищались. А я вспоминала голубые ласковые глаза старика, улыбку и маленькую девчушку, не отходившую от него ни на шаг. Я еще тогда подумала: какой мир и покой, какая любовь в этой семье. Теперь же я думала о другом. Как часто под конец жизни нас мучает то, что мы не все сделали. Как будто в картине нашей жизни не хватает некоего штриха, мазка. И как мучительно ищем мы краски, чтобы положить последний штрих. И часто не найдя, так и уходим с сознанием незавершенности. Старик Ираклий оказался мудр. Он спросил совета у Главного Критика наших полотен. Летний ветер, наполненный ароматами трав и цветов, солнечным теплом и отблесками небесной синевы, пением птиц, шорохами и вздохами мира, обнимал нас за плечи, трепал волосы, ласкал лица. Главный Художник продолжал писать Свое великое полотно.