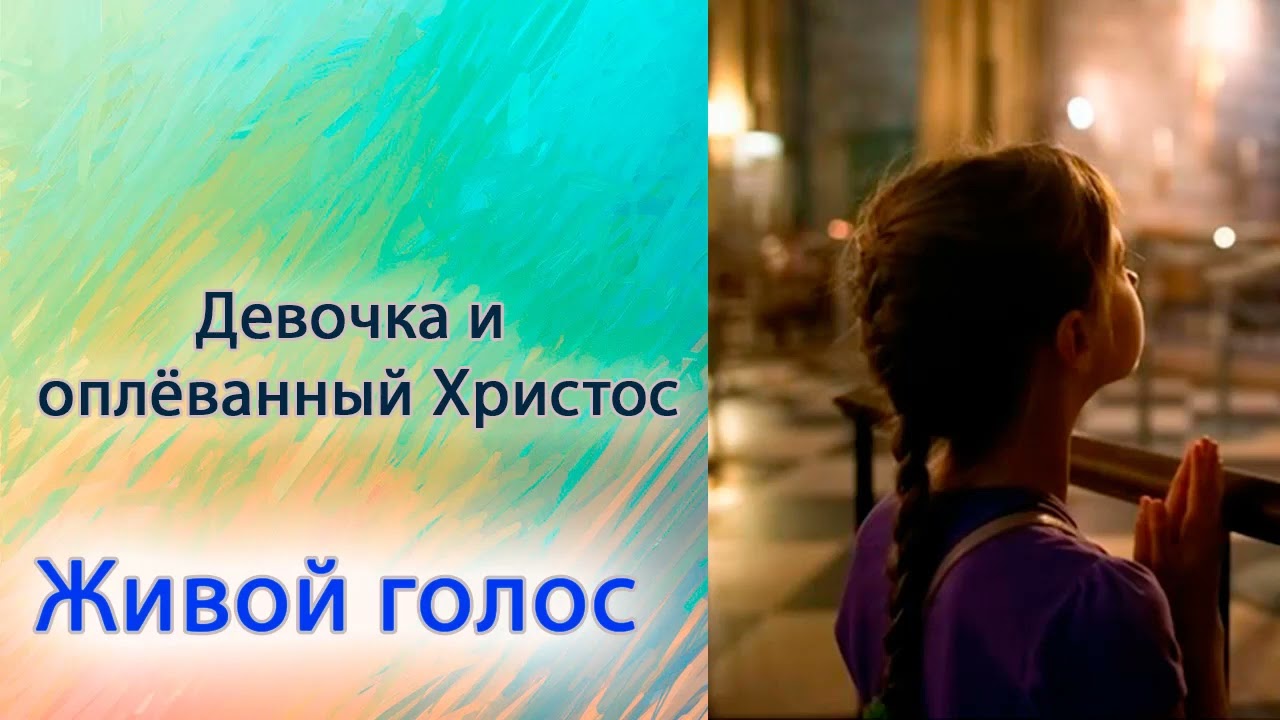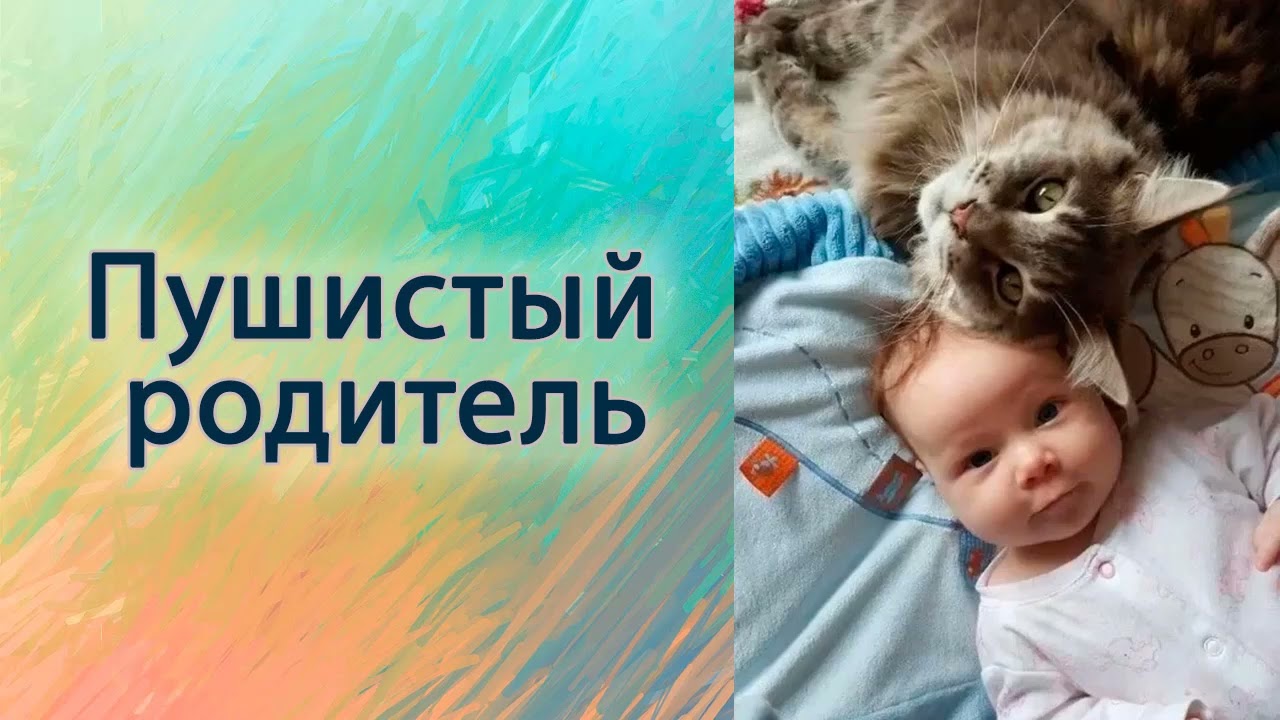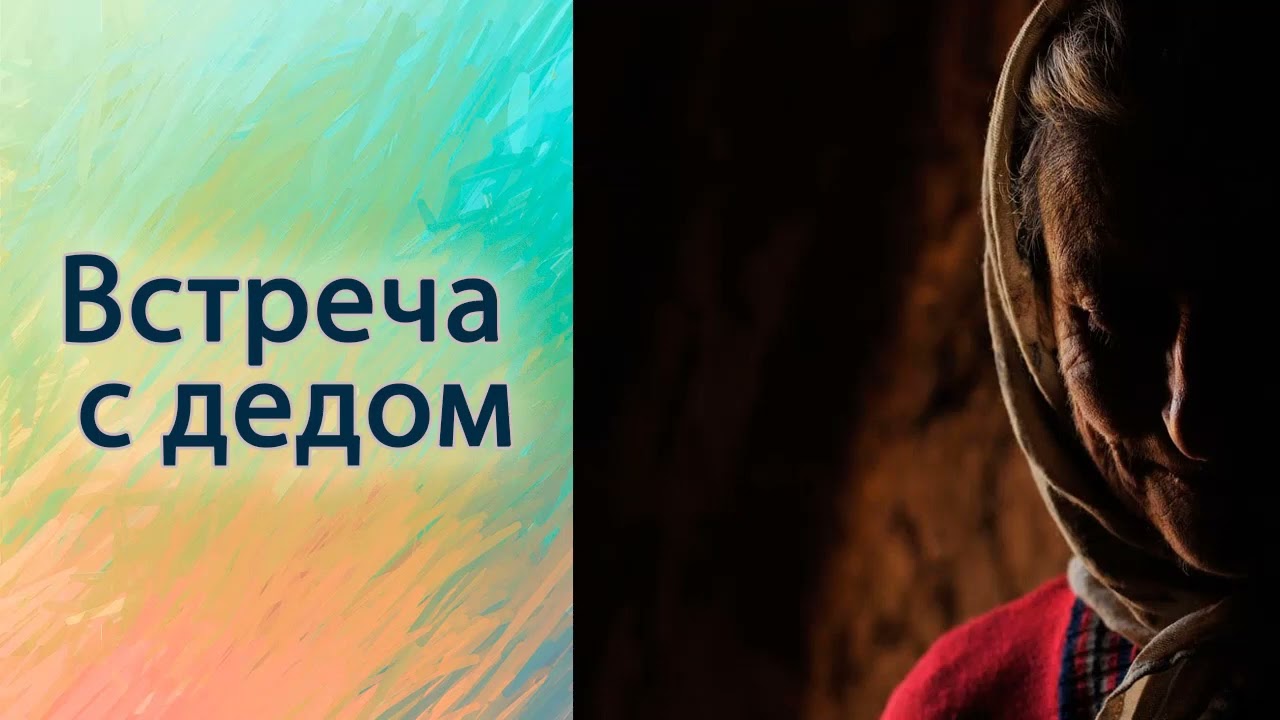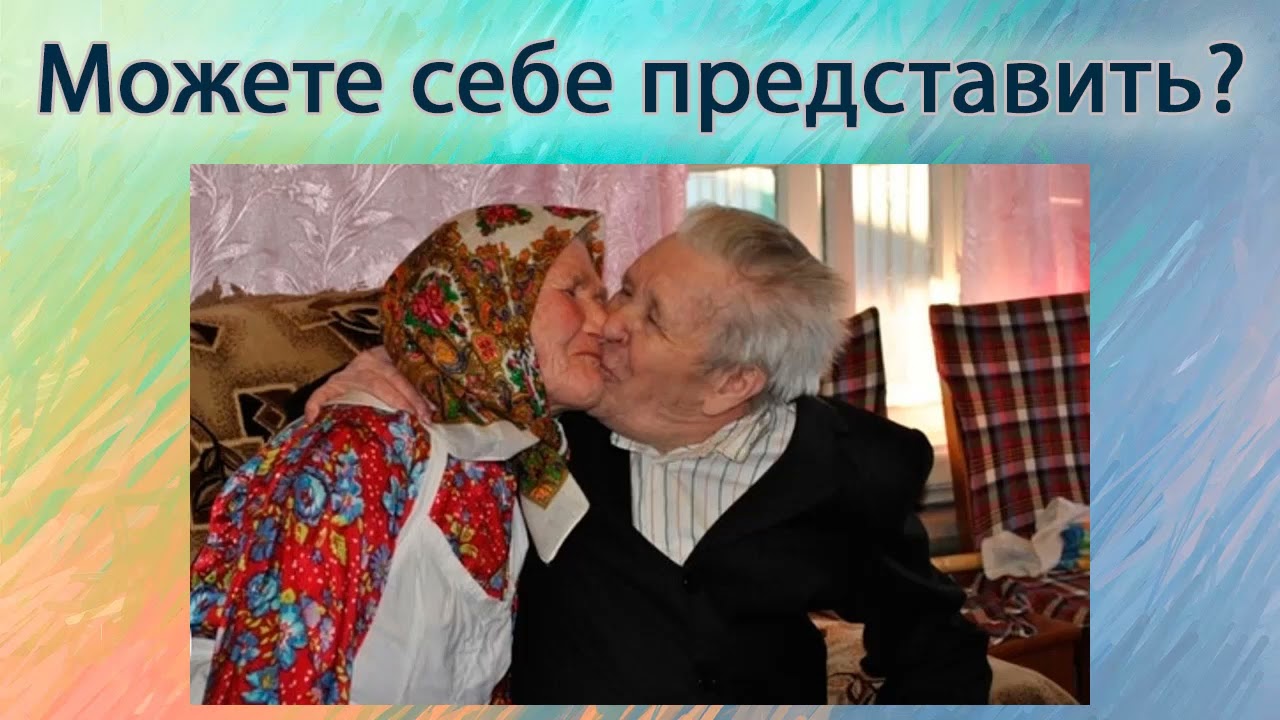На станцию бабушка ходила каждый день. Пять километров туда, пять оттуда. Возвращающаяся со станции бабушка – это было привычней и неукоснительней, чем идущий с работы папа или проверяющая тетрадки мама: у папы были выходные, отпуска и командировки, у мамы – каникулы или, в редкие дни, отсутствие тетрадок, а у бабушки не было ни того, ни другого, ни третьего. Отправляющейся в путь бабушку никто не видел, поскольку она уходила, когда все еще спали. Единственный поезд, останавливающийся на ближайшей станции, приходил в семь утра. Его и ходила встречать бабушка. Тимофей бежал в школу, а навстречу – бабушка. Она смотрела или под ноги, или вдаль невидящим взглядом, Тима подбегал к ней, прижимался и говорил: «А я, бабунюшка, в школу иду». Бабушка гладила его по голове со словами: «С Богом, Тимушка, с Богом». Крестила его и целовала в лоб.
Со станции она всегда приходила очень печальной и, долго занимаясь делами по дому, иногда напевая что-то, была как в воду опущенной. И так каждый день. Бабушка редко была веселой. Мало говорила, больше слушала. И даже не от нее, а от мамы Тимоша знал, почему бабушка ходит на станцию. Она встречает дедушку. А тот все не приезжает. Вернее, не возвращается. С войны. Когда он ушел на фронт, мама была еще в колыбели, а ее старшему брату исполнилось пять лет. И он плохо помнит отца.
Бабушка очень боялась, что дедушка вернется, а его никто не встретит, и он подумает, что бабушка не ждала и не верила. А она ждет и верит. И в церкви ставит свечки за дедушкино здравие. «Пусть хоть где, остался даже если с кем-то, здоровый будет», – это уже сам Тима слышал, когда бабушка с соседкой разговаривала. У той муж тоже не вернулся. Но ей и похоронка пришла, и на могиле его она уже не раз была, когда пионеры-следопыты определили место его захоронения и прислали письмо. Она со всеми пятью детьми на могилу ездила. И после поездки, в которую ее собирали всем селом с огромными хлопотами, рассказывала бабушке:
– Всех перед ним выстроила, говорю: «Полюбуйся, Федор, каких я тебе детей вырастила. Не всякие родители вдвоем так поднимут, как я их подняла». Из пятерых только двое его помнят, а Танюшку-то и он не видал: после него, в августе, родила, хоть в сентябре ждали.
Бабушка кивала головой:
– Разве я не помню? Все помню. И про твоих, и про своих...
А бабушке пришло другое письмо: без вести пропал. Значит, жив. В этом бабушка абсолютно уверена. Да вон даже после похоронок, говорят, люди возвращались. А уж после «без вести пропал» и в соседнее село тракторист пришел. Без ноги. И дедушка придет. Выйдет он на станции, а его никто не встречает. Это горько и обидно после стольких лет разлуки. Бабушке поэтому и болеть некогда, как она сама говорит, потому что болей не болей, а на станцию идти надо.
Как-то Тима с классом поехали на экскурсию. На поезде. Так получилось, что учителя не смогли известить совхоз, когда возвращаются дети. И Тима помнит, как он обрадовался, когда в утренних сумерках на пустом перроне увидел бабушку: она стояла в начале платформы и жадно всматривалась в окна проплывавших мимо вагонов. Они с Тимой одновременно увидели друг друга, и мальчик радостно закричал: «Бабушка! Я приехал!» А она побежала, как могла в ее возрасте, за тянувшимся до остановки вагоном, словно боялась, что Тима проедет мимо. Это было так приятно, что тебя встречают! Ждут! Пока весь класс сидел в малюсеньком зале вокзала, дожидаясь вызванного по телефону совхозного автобуса, Тима, гордый тем, что его единственного встретили, успел пересказать бабушке все впечатления от поездки. Она сидела, внимательно слушала его, прижав к себе и гладя по голове, но словно и не слышала.
Мама мечтала быть геологом, как старший брат, а стала учителем. Тоже из-за станции. Брат ей объяснил, что с бабушкой должен кто-то остаться: она ни в какую не хотела никуда уезжать. Мама закончила пединститут и вернулась в родное село.
А Тима мечтал быть следопытом. Чтобы отыскать своего дедушку. Ведь следопыты не только могилы разыскивают, но и людей, которые потерялись во время войны. Дедушка тоже мог потеряться. Например, забыл адрес. Так бывает, что человек все забывает после ранения. Но для того чтобы стать следопытом, сначала надо стать пионером. И Тима так старательно учился и хорошо себя вел, что его приняли в пионеры в числе трех лучших учеников класса. Следопыт должен хорошо знать географию и историю. Еще ориентироваться на местности и читать карты. У Тимы были пятерки по всем предметам, но знания географии, истории были таковы, что он, ученик сельской школы, побеждал на областных олимпиадах по этим предметам, и в ориентировании на местности на «Зарницах» ему тоже не было равных.
– Бабунюшка, я обязательно найду дедушку и привезу его домой, – говорил он бабушке, когда она была особенно печальной.
– Ты, Тимушка, моя надежда, – всегда отвечала она. Но, надеясь на внука, все равно каждый день ходила на станцию.
Учиться дальше Тимофей мог поехать и в Москву, но поступил на физико-математический факультет университета в областном центре, потому что не представлял, что сможет видеть бабушку не чаще, чем два раза в год, на каникулах после летней и зимней сессий, и приезжал на каждые выходные. Учеба на программиста позволяла Тимофею расширить поисковые возможности. Он систематизировал данные о без вести пропавших: где, сколько, какое количество затем удалось отыскать среди живых... Прекрасно понимал, что шансы отыскать деда среди живых равны нулю. Собирал данные о захоронениях, особенно в тех местах, где воевал дед и находился в тот момент, как пропал без вести. Поисковая работа и на местности, и в архивах стала образом жизни Тимофея, и консультировались у него даже люди с учеными степенями.
...Нашел он не только могилу деда, но и двух его здравствующих однополчан, один из которых видел, как рядом с дедом разорвался снаряд и от деда едва ли что даже осталось. Самого однополчанина контузило, и он после госпиталя был демобилизован. Он уверен: дед погиб, а известие о том, что без вести пропал, пришло потому, что мясорубка была страшная, штабы просто не успевали выяснять, что случилось с каждым солдатом. Однополчанина после войны разыскали местные следопыты, выяснявшие имена воевавших, и он имя Тимофеева деда уверенно назвал в числе погибших за село. Следопыты и родных погибших воинов разыскивали. Но, видимо, не получилось всех известить.
О результатах своих поисков Тимофей не говорил никому. И на могилу поехал со своей поисковой группой, не сообщив домашним, что, похоже, отыскал захоронение деда.
Обелиск стоял на краю села. Имя деда было написано черной краской на скромной серой бетонной стеле первым: Белолицев Т. И. – Тимофей Иванович. Внук взял землю с могилы деда, положил в мешочек, который сшила ему бабушка в первые его школьные поисковые поездки. Холщовый мешочек предназначался для хлеба. Так, в этом мешочке, он и привез землю домой, положил за бабушкину икону, перед которой она каждый день молилась, но почти никогда уже не заглядывала за образа: уборка была обязанностью сестры Тимофея Тони, которой он наказал не трогать положенную им вещь.
Внук понимал, что ожидание деда только и держит на этом свете старенькую бабушку, и если она узнает о том, что он давно умер, едва ли долго проживет после такого известия. Она жива этим ожиданием. И родителям нельзя сообщать: они наверняка проговорятся, тем более отец все чаще настаивает на переезде в областной центр, где ему, директору фирмы, прекрасному хозяйственнику и организатору, давно и настоятельно предлагают занять пост в министерстве.
В город все-таки решили переехать. Отец заявил, что нельзя отпускать младшую дочь одну учиться в центр, недопустимо всю семью делать заложниками бабушкиных фантазий, когда ясно как дважды два, что дед давно умер, ждать некого. Бабушка и не настаивала никогда, чтобы кто-то оставался в селе из-за нее. Она просто говорила, что сама никуда не уедет.
Когда Тимофей заканчивал четвертый курс, а сестра готовилась к вступительным экзаменам в вуз, отец поставил вопрос ребром, оформил перевод в министерство и стал готовить семью к переезду. Бабушка была совсем плоха, на станцию еле ходила, по-прежнему говорила, что никуда не поедет. Мама почти плакала и уговаривала, намекая, что не может остаться с ней, поскольку в городе мужа сразу приберут к рукам бойкие горожанки, что нельзя и дочь оставлять в городе без присмотра.
– Поезжай, поезжай, Манечка, – буквально хорохорилась бабушка. – Я одна прекрасно проживу. Хозяйство мне одной не нужно. А воды принесу, сготовлю себе, поезжай, не думай, заботу не бери в голову – справлюсь.
Ничего не говоря родителям, Тимофей перевелся на заочное отделение и поставил семью перед фактом:
– Я остаюсь с бабушкой, а вы переезжайте в город.
Отец пытался возражать, но Тимофей заявил, что если они даже насильно увезут беспомощную бабушку, он все равно останется и сам будет ходить на станцию встречать деда.
– Ты портишь себе жизнь! – воскликнул отец. – Какая карьера тебя ждет в деревне?!
– Извини, отец, но карьериста из меня тебе не удалось воспитать. Да и тебе жизнь здесь не помешала занять пост в министерстве. Почему ты думаешь, что мне помешает? Тем более я программист и могу работать хоть на необитаемом острове, если связь с землей более-менее налажена.
Как-то осенью бабушка окончательно слегла, чего сильнее всего боялась. Она ни о чем не просила Тимофея, но на другой день он встал чуть свет и стал собираться.
– Ты куда? – спросила бабушка.
– На станцию, деда встречать.
– Фотографию возьми, а то не узнаешь, – голос бабушки дрожал от радости и волнения, она показывала на стену, где в старой раме под стеклом было много карточек, в том числе деда. Он прислал это фото с фронта: в пилотке, лихо сдвинутой набекрень, гимнастерке.
– Узнаю, бабунюшка.
– Нет, возьми, – настаивала она.
Тимофей не стал возражать. Он достал из-под стекла фотографию деда, на которой тот был почти его нынешним ровесником.
– В целлофан заверни, – продолжались советы.
И эту просьбу выполнил внук. Пошел, перекрещенный на дорогу бабушкой. Конечно, можно было бы остаться во дворе, залезть на сеновал, поспать там, а потом прийти в дом и сказать, что был на станции. Но он боялся, что бабушка все поймет. И пошел встречать деда, могилу которого отыскал два года назад. Странное дело: когда поезд показался и вагоны стали проплывать мимо, Тимофей начал вглядываться в окна, поймав себя на том, что надеется увидеть деда. Увидеть именно таким, каков он был на фотографии, лежащей во внутреннем кармане пиджака.
Никто не вышел из остановившегося состава. Но только когда поезд скрылся из виду, Тимофей пошел домой. С этого дня он каждый день ходил на станцию и со странной надеждой всматривался в окна тормозящего поезда.
Учась в городе, Тимофей ходил и на дискотеки, по вечерам собирались с друзьями, а в деревне он помимо нехитрых работ по хозяйству все время уделял учебе и поискам. И уже вокруг него собиралась местная ребятня, заразившаяся интересом к поисковым работам, истории, краеведению. Запросы в архивы, выписывание редких книг, штудирование карт навели его на поразительное открытие: в его родных местах могли сохраниться древние стоянки, останки людей, которым не менее тысячи лет. Тимофей не только подробно опросил всех старожилов, собрал предания, легенды, песни своего села, но и исходил соседние деревни, пока не определил место, где следует производить раскопки.
Закончив вуз с красным дипломом, имея массу самых заманчивых предложений, Тимофей остался в родном селе – учителем в школе. И уже в июле, еще не приступив к работе с учениками, начал с группой поисковиков под руководством профессора археологии раскопки.
Несмотря на бурные археологические работы, Тимофей продолжал каждый день ходить на станцию. Бабушка крестила его перед уходом, и с каждым разом это движение давалось ей все труднее.
Придя как-то со станции, Тимофей увидел, что бабушка без него приподнялась и не лежала, а сидела на кровати. Она похорошела, лицо ее светилось. Он не успел ничего сказать, как она тихо произнесла:
– Тимоня, милый ты мой! – и протянула к нему руки, воздев их.
Она впервые назвала его Тимоней. Обычные ее обращения к нему были «Тимонюшка», «Тимочка», «Тимушенька». Он хотел ответить ей, но она вдруг запричитала:
– Пришел! Вернулся! Хотя ничего особенного в том, что он вернулся со станции, как и ежедневно, не было.
– Я знала, знала! – и Тимофей понял, что она увидела в нем деда.
– Подойди, подойди, душа ты моя! Истосковалась как я по тебе, сокол ты мой ясный!
Таких ласковых слов никогда не слышал прежде от бабушки даже он, ее любимец. Подошел к кровати, сел. Бабушка уткнулась ему в плечо, прижалась, причитала:
– Дети-то как выросли! Не узнаешь детей-то! А ты не изменился! Я вот постарела, не смотри на меня, – бабушка, как девушка, стыдливо прятала лицо, уткнувшись в рукав внука. – Сейчас Тима придет. Манин старший. Ушел он. Тебя встречать пошел. Разминулись вы, видно. В твою честь назвали. Как с тебя вылили, Тиму-то. Маня – в городе, недавно туда уехали, а так все со мной жила. Ваня-то – геолог у нас, всю землю уж исходил. Я дальше райцентра так и не была, а он всю землю нашу обходил-объездил. Боялась я уезжать-то. А ну на день уеду, а ты в тот день и вернешься? Скажешь: куда жена-то удула? Мужа с войны не ждет, гуляет. Ноги вот у меня отказали, совсем не ходячая, а когда таскала, все дни, ни одного не пропустила, ходила тебя встречать. Ну вот и отчиталась перед тобой за жизнь мою. Жила долго, а отчиталась коротко. Тимоня, сокол мой, сейчас и умирать можно – дождалась, ты мне и глаза закрой, друг сердечный.
Тимофей все понимал. В глазах стояли слезы, но он не мог их даже смахнуть: одной рукой он держал руку бабушки, другой гладил ее седую голову. Бабушка стала говорить тише, неразборчиво, потом откинулась на подушку, сложила руки на груди и затихла. С улыбкой и умиротворением на лице. И лицо стало буквально ликом, какие были на многочисленных иконах в доме. Глаза остались чуть приоткрытыми. Внук закрыл бабушке глаза.
Как странно и несправедливо: всю жизнь рядом с тобой был человек. Самый близкий, самый любимый, дорогой. И вдруг он просто закрыл глаза, и его не стало. Тимофей никогда не встречался со смертью близкого. Он не представлял, что это так буднично и страшно в своей неотвратимости.
Он сам обмыл ее, сам одел в вещи, давно лежавшие приготовленными ею в похоронном узелке. Сделав все это, позвонил родителям и сообщил о случившемся.
В гроб бабушке кроме фотографии деда он положил тот холщовый мешочек с землей. Когда гроб поставили на краю могилы, к траурной толпе подлетел белый голубок и сел на рябину, стоящую в головах свежевырытой ямы. Не спугнули его ни стук молотка, вбивающего гвозди, ни громкий плач мамы. Голубок сидел на ветке, пока люди не пошли с кладбища. Тогда и он вспорхнул и улетел. Все обратили на него внимание и гадали, что это могло значить. И только Тимофей точно знал, что это за голубок и почему он прилетал к бабушкиной могиле.
Анна Серафимова
1 просмотров
•
7 месяцев назад
Как-то радостно и тепло