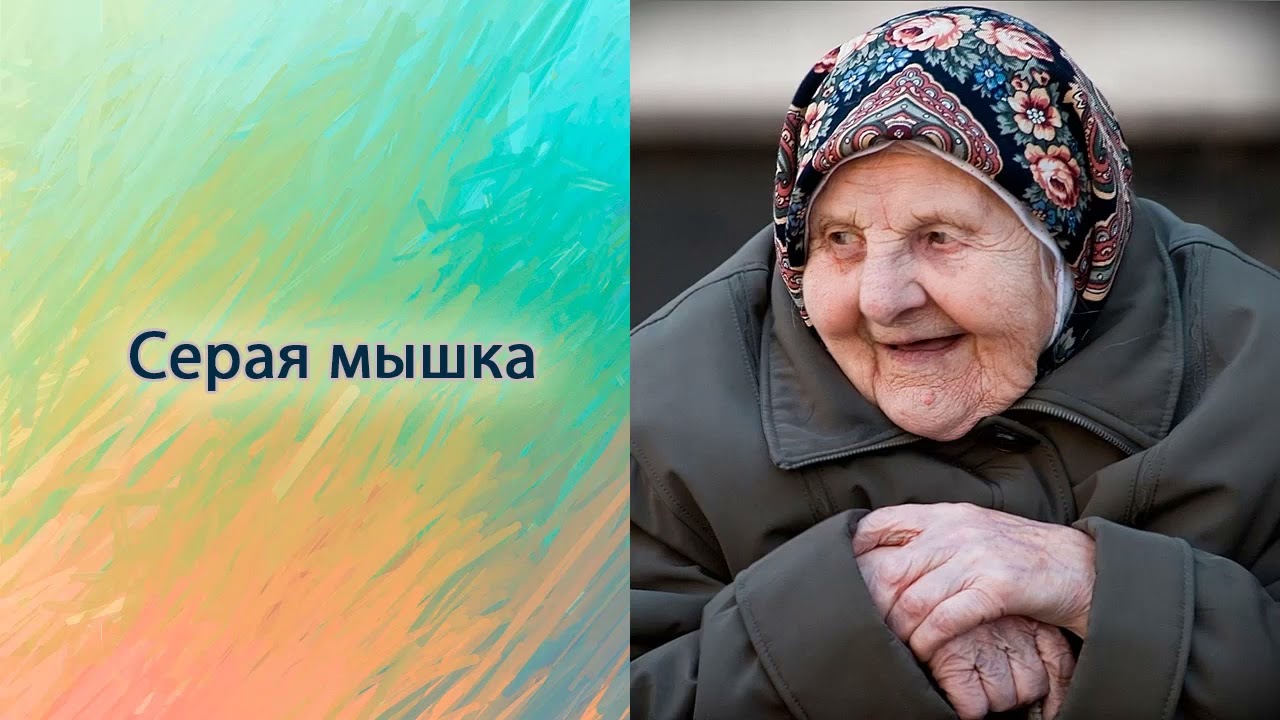В одном поселке городского типа жил священник, а точнее, иеромонах. Он уже давно потерял жену и после этого решил принять постриг. Сподобившись пострижения в монашество в одном из монастырей, он, после хиротонии, был по благословению своего владыки приписан к храму этого поселка. Отец Никон (так его звали) уже несколько лет жил при храме и питался, как говорил апостол Павел, своими священническими трудами. Он был добросовестный священник и за свою отзывчивость был любим своей немногочисленной паствой.
За многолетнее служение на благо Матушки Церкви, он приказом Святейшего Патриарха был награжден крестом с украшениями. Этот крест он берег и надевал его только по большим праздникам. Отец Никон не считал себя достойным этой награды, но его признали достойным и с этим ничего нельзя было сделать.
На дворе стоял октябрь и с каждым днем становилось все холоднее, хотя снега все еще не было. В этот день отец Никон занимался дровами, желая натопить печь. Хотя он и был почтенного возраста, но порох, как он часто шутил, все еще был в пороховницах и обслужить сам себя он еще был в состоянии..
— Бог в помощь! — раздался внезапно чей-то голос.
Отец Никон посмотрел и увидел в воротах двоих. Они стояли и озирались, вероятно, высматривали собаку. Было видно, что они замерзли, об этом говорили и их легкие куртки. Они сжались и держали руки в карманах. У одного из них за плечами был большой рюкзак, у другого в руках пакет.
— Благодарствую, — ответил отец Никон.
— Вы настоятель этого храма?
— Да, — ответил священник, — вы ко мне?
— Нет, вообще-то, — ответил один из них. — Мы просто проходили мимо и увидели эту красоту, — он двумя руками показал на храм. — И вот решили посмотреть поближе.
— А вы тут один живете?, — спросил второй.
— Да нет, не один. Я с котом. .
Путники улыбнулись и неуверенно вошли в ворота.
— Вы замерзли, как я погляжу. Давайте я вас чаем напою.
— Мы не против. Время позволяет.
Отец Никон воткнул топор в пенек и рукой указал гостям на входную дверь.
— А вы сами-то совсем не чаем разогреваетесь.
— Да, вот приходится разминаться иногда, иначе совсем жиром заплыву. Как говорится, помяни, Гоподи, непраздного Никона.
Все трое засмеялись.
Войдя на терассу, путники разделись, оставили рюкзак и пакет и прошли в дом. Было сразу видно, что в доме живет верующий человек: изобилие икон и фотографий, подсвечников и горящих лампад непроизвольно бросалось в глаза, а черные рясы, висящие при входе, говорили еще и о том, что этот верующий — священник. На стене тихонько тикали часы. Серый кот прошел за людьми в дом и вертелся в ногах у отца Никона.
Чайник вскипел, и уже через несколько минут все трое сидели в зале за чаем.
— Ну и как она, жизнь священническая, — после некоторой паузы спросил один из пришельцев.
— Непростая она, — ответил священник, — ответственная. Но и незаменимая.
.. в комнате заиграла красивая церковная музыка «Се Жених грядет». Это был телефонный звонок. Отец Никон взял телефон и вышел в другую комнату. Это был его сын, который периодически связывался со своим отцом-монахом и интересовался его здоровьем. Они разговаривали минут пять, после чего отец Никон вернулся к гостям. Когда он вошел в зал, двое его гостей стояли по стойке «смирно» и смотрели на него круглыми глазами. Они несколько раз переглянулись. Один явно что-то говорил другому своим взглядом. И вдруг он объявил:
— Нам уже нужно идти. Простите нас. — И они быстро проскочили на терассу.
— Так быстро?, — только и успел сказать им вслед озадаченный священник.
Еще через несколько секунд входная дверь закрылась. Отец Никон услышал, что на пороге они о чем-то спорят друг с другом. Посмотрев в окно, он только успел увидеть, как они быстрым шагом выходили, почти выбегали из его ворот. Он только пожал плечами — Наверно, я что-то не то сказал, — подумал он и сел допивать свой чай. Только на следующий день отец Никон поймет в чем было дело — он не найдет на положенном месте своего подарочного креста. Коробочка останется на месте, а ее содержимого не будет. Отец Никон немного растерялся и сначала подумал, что в последний раз не положил его на место, но потом сообразил в чем дело. Он перенес пропажу спокойно. Помолившись за молодых людей, он вверил себя и их в руки Божии, что он всегда и старался делать по жизни и к чему приучал себя с молодости.
Прошло некоторое время и в жизни отца Никона произошли перемены. То ли из-за перераспределения кадров, то ли по личной договоренности архиереев отца Никона перевели в другую епархию. Ему пришлось оставить свой облюбованный домик с печкой и уехать в городскую квартиру..
Прошел год. Отца Никона уже знали и любили все. Молодые священники часто советовались с ним, а пожилые почитали за своего друга и любили пообщаться. Новый владыка, узнав о краже его подарочного креста, в скором времени на День его ангела преподнес отцу Никону этот подарок. Справедливость, как казалось, восторжествовала. Но суд Божий оказался несколько иным.
Однажды в главном соборе города был престольный праздник. В такие дни, как правило, служил владыка, а духовенство города и окрестных близлежащих приходов приезжало сослужить своему архиеерею. Отцу Никону также было велено принять участие в праздничной архиерейской службе..После окончания богослужения и праздничного молебна, отец Никон направился в ризницу. Внизу священники разоблачались и что-то шумно обсуждали. Когда он спустился, один из его знакомых батюшек обратившись к нему спросил:
— Отец Никон, у тебя случайно нет знакомого непраздного священника Нифонта?
Когда он это сказал, все священники дружно засмеялись.
— Что-то я тебя не пойму, – ответил отец Никон.
— Да у нас тут никто понять не может, что это за непраздный священник Нифонт.
— А почему непраздный, беременный что ли?
Молодые священники засмеялись.
— Вот мы и сами пытаемся понять, на каком, интересно, он месяце и как так вообще получилось?
— Ладно, будем надеяться, что он когда-нибудь найдется.
Отец Никон снял фелонь и спросил:
— А кто его ищет?
— Да не знаю. По телевизору уже несколько дней бегущей строкой это объявление мелькает, что помогите, мол, найти некоего непраздного Нифонта, у которого год назад украли крест.
Отец Никон так и присел после услышанного. «Непраздный Никон», так ведь это я так себя назвал год назад, когда с незнакомцами разговаривал, — подумал он. Что-то я понять не могу, меня что ли ищут? Кто и зачем? — задавал себе вопросы отец Никон. Никак воры-то мои покаялись. Вот так чудо!
— А там адрес или телефон прилагался?, — поинтересовался он.
— Да, телефон какой-то был.
— Отец, Кирилл, ты не мог бы мне услужить? Перепиши для меня этот телефон.
— Хорошо, отче, не вопрос. Завтра же пришлю вам сообщение на телефон.
Весь оставшийся вечер отец Никон думал, что же они хотят ему сказать? Наверно, крест вернут, прощение будут просить. Он и не держал на них зла, просто за их ошибку переживал. Слава Богу! Образумились. Хоть через год, но образумились. Надеюсь, у них там все в порядке, — задавал он себе вопросы.
На следующий день ближе к обеду действительно пришло сообщение от знакомого священника, в котором был номер телефона. Отец Никон немного помедлил: — «Господи, благослови», и набрал номер.
— Алло! — раздался чей-то незнакомый голос на том конце провода.
— Здравствуйте! Меня зовут иеромонах Никон. Я…
Но ему не дали договорить.
— Батюшка, как хорошо, что вы позвонили! Мы вас уже столько месяцев ищем, совсем отчаялись уже. Где вы сейчас? Нам срочно нужно вам вернуть ваш крест. Мы допустили тогда ошибку и теперь расплачиваемся за нее. Так где же вы? Как нам встретиться?
Оказалось, что они совсем в разных областях. Отец Никон сказал ему свой новый адрес и они договорились встретиться. Тот человек обещал завтра же приехать к нему. «Вот это да, — думал отец Никон, — видать сильно прижало».
На следующий день тот человек и правда приехал. Не было еще 10 часов дня, как в дверь позвонили. Открыв дверь, отец Никон сразу узнал своего гостя-боевого офицера. Одет он сейчас был по-летнему, но лицо его он запомнил хорошо. Лицо вполне честное, доброе и приличное, — промелькнула мысль, — что же их подвигло на воровство?
— Здравствуйте, батюшка! Благословите, — и гость подошел под благословение. Эту перемену нельзя было не заметить. В прошлый раз они про благословение и не вспомнили.
— Заходи старлей, — сказал отец Никон, — гостем будешь.
Тот зашел, разделся и прошел в квартиру.
— А у вас хорошая память, — сказал вошедший.
— Не жалуюсь. Может чаю? — спросил хозяин.
Гость посмотрел отцу Никону в глаза и невольно вспомнил про последний с ним чай год назад. Тогда священник тоже предложил им чай. Было видно, что он очень сильно переживает и чувствует вину. Это предложение чая было, как удар по больному месту. Он опустил глаза и сказал:
— Да, если не трудно.
— Да какой уж там труд, — сказал священник и ушел хлопотать на кухне.
Через пять минут чай был готов и они сидели за чашками ароматного чая.
— Какой хороший чаек!, — сказал гость.
— Да, мне его специально из столицы привозят. Люблю, знаешь ли, хороший чай и ничего не могу с собой поделать. Тебя звать-то как?
— Александр.
— А вы, стало быть, отец Никон. А то мы вспоминали, вспоминали и ничего, кроме отца Нифонта не вспомнили.
С этими словами он достал из нагрудного кармана небольшой сверток, развернул его и положил на стол. Отец Никон сразу узнал свой крест. Он ничуть не изменился и был таким же красивым и сверкающим.
— Да, это он, — сказал отец Никон. Он и не собирался спрашивать о мотивах их поступка, но Александр сказал сам.
— Я даже не знаю, как это произошло, — начал он свой рассказ. Это Юра зачем-то его взял, ну, тот второй, помните? Когда вы вышли из комнаты, он стал бродить по залу и смотреть обстановку. Заметив какую-то коробочку, он открыл ее и увидел крест. Достав его, он долго рассматривал, а потом почему-то положил в карман. Я увидел это в последний момент. Я даже не знал, что он там взял. Я подумал, что что-то незначительное, может на память о гостеприимном хозяине. Говорю, ты что взял? Он отвечает — так, ничего особенного. Я подхожу, открываю футляр, рядом с которым он стоял, а он пустой. Я его спрашиваю, ты, что крест взял что ли? И тут заходите вы. Я, право, и не знал как поступить. Все так неожиданно получилось. Сказать при хозяине, — положи крест на место, было бы, своего рода, предательством нашей дружбы. И я промолчал. Поэтому и решил быстро уйти. Я его потом спрашиваю, зачем тебе священнический крест? А он говорит, я сам не знаю зачем его взял. Говорит — бес дернул.
Ну и пошла у нас после этого «веселая» жизнь. Все началось уже на вокзале, когда у нас украли наши вещи. У меня в рюкзаке отличная новая палатка была, а Юра в пакете свой отремонтированный ноутбук нес, который только что из сервиса забрал. Я ему говорю — вот видишь, это все из-за этого креста! А он мне говорит — это совпадение, сами виноваты, не доглядели. Ну, я тогда спорить с ним не стал, так как и действительно не доглядели. Но потом я приезжаю домой, а у моей машины все колеса проколоты. Через неделю Юра мне звонит и говорит: «У меня гараж взломали, ну и, понятно, все, что можно вынесли». Я ужаснулся. У него там новенький квадроцикл стоял, плюс мотоцикл его друга. Он в шоке. Я, говорит, не знаю, что делать? Ладно, за мотоцикл как-то расчитались.
А потом по нашему городу, да и не только по нашему, пошла волна поджегов автомобилей. Вы, наверно, слышали об этом, когда по ночам по десять машин сразу жгли прямо во дворах? Ну и как вы думаете, чей был автомобиль, который подожгли первым?
Отец Никон отхлебнул из чашки и посмотрел на своего рассказчика.
— Да, — продолжил он, — это был мой Рено. Сгорел до тла, один черный кузов остался.
Я звоню Юрке и говорю — так и так, а он мне в ответ: «Ты не поверишь, у меня дача сгорела. Говорят бездомные в нее пробрались и ночевали. Наверно, курили или еще что-то. Короче сгорела моя хибара».
— Вот это да! — говорю. — Надо что-то делать. Сейчас ты тоже скажешь, что это совпадение?
— Нет, — отвечает, — это не совпадение.
Я ему говорю:
— Ты украл, а расплачиваемся вдвоем. Ты во всем виноват!
— Ладно, — говорит, — виноват я, виноват, давай решать уже что-то.
— Что тут решать, — говорю ему, — поедим на то же место и отдадим крест.
Договорились с ним о встрече и вдвоем приехали к вам туда. Ну а там, понятно, уже никого нет. Куда уехал священник никто не знает. Говорят только, что перевели.
— Ну, — говорю, — попали мы! Что делать-то будем?
— Не знаю. Может просто оставим крест тут, на окне и уйдем?
— Нет, неправильно это будет. Утащили из квартиры, прям из-под носа владельца, а вернули на окно, да к тому же, когда хозяин уехал отсюда? Так что ли?
— Нет, не пойдет так, — говорит.
Короче, вернулись ни с чем. Этого мало. Нас на том же вокзале по пути домой опять ограбили. Только на этот раз в открытую — дали по голове и вытащили все из карманов.
Прошло где-то с несколько месяцев. В это время было некоторое затишье. А потом автобус, в котором мой Женька ехал, попал в аварию. Ни у кого даже царапины нет, а он один упал так неудачно, что головой прямо на металлический уголок. Весь в крови, огромный порез, плюс сотресение и перелом двух пальцев на руке. Я был в ужасе. Через неделю мне звонит Юра и говорит, что его ограбили — вскрыли квартиру и вынесли на несколько десятков тысяч. Благо, их кто-то спугнул, а так бы все вынесли. И опять мы задумались о своих действиях, но не знали что делать. Ходили в храм, советовались со священником. Он хотя и дело говорил, но нам что-то подсказывало, что мы должны вернуть украденную вещь ее хозяину.
Потом, как по какому-то сценарию мы оба попали под сокращение на своих работах.. потом я узнал, что Юра погорел — квартира сгорела. Дело было ночью и он спал со своей семьей дома, когда замыкание случилось. Вроде все живы, но он сильно обожжен и лежит в больнице. Месяц назад он мне позвонил из больницы и говорит: «Сделай что-нибудь, что угодно, иди к президенту, к Патриарху, но найди способ вернуть крест, иначе мы все умрем». Я молился и просил вразумления, как поступить. А потом мне пришла мысль дать объявление по какому-нибудь общественному телеканалу, который показывают у всех. И после больших трудов и немалых денег это удалось сделать. Правда, не знал что написать и написал то, что вспомнил, точнее то, что только мы с вами знали. Хотя имя ваше так и не вспомнил.
Саша замолчал и допил чай. Отец Никон тоже молчал какое-то время. Он удивлялся действию Промысла Божия и Его справедливости. Вот ведь как все непросто! Ничего не бывает без последствий. Все-таки милостив Господь, что наказывает нас еще здесь.
— Вот это история!, — сказал отец Никон после некоторой паузы. — А ведь уже давным-давно в Священном Писании сказано — Не укради. Давным-давно. Но, видно, не все знакомы с Священным Писанием. Вот ты и узнал на себе о действиях Промысла Божия. Кто ворует тот и сам ограблен будет.
Но у вас немного другой случай. Вы украли у монаха, а это другая статья. — отец Никон улыбнулся. — Монахи — это дети Божии, которых Господь бережет и не дает в обиду. Не случайно говорят, что имущество монахов — огонь. Украдешь у монаха десять рублей, потеряешь тысячу. Воровать вообще нельзя, а тем более у монахов. Это опасно для жизни.
Они засмеялись.
Отец Никон принял его извинения и уверил его, что их покаяние принято Богом и больше с ними ничего скорбного случится не должно, если, конечно, не нагрешат снова.
Глядя в окно, отец Никон провожал взглядом своего гостя. Слезы радости сползали по его щекам. Он благодарил Бога за Его неустанный Промысел о мире и о себе, и еще раз уверился в христианской истине, что всякий надеющийся на Господа не постыдится.
Автор истории: Иеромонах Роман (Кропотов)
1 просмотров
•
7 месяцев назад
Вразумление через скорби